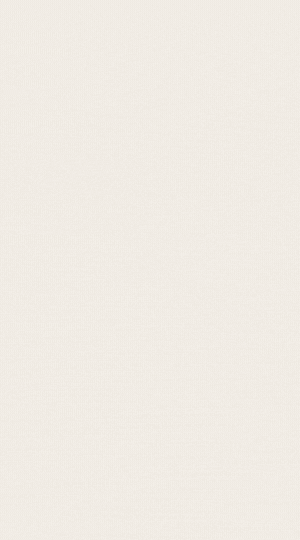Найк Борзов: «И битбоксить могу»

Найк Борзов выпустил двойной альбом «Молекула», на котором представил новые версии своих хитов — «Лошадка», «Верхом на звезде» и других. Денис Бояринов встретился с атипичным русским рокером, чтобы спросить его, зачем ему это было нужно, а заодно поговорил о ленточном ревербераторе, внутренней музыкальности, психоделической музыке и проблемах нашего общества.
— Вы с синтезаторами дружите?
— Очень люблю синтезировать. Вообще.
— На чем синтезируете?
— На чем угодно. Могу даже собственным телом обойтись. Без всяких примочек. Важно же не просто ручки у синтезатора крутить. Надо понимать, что делаешь. А если есть внутренняя музыкальность — то вообще ништяк. Поэтому я считаю, что синтезаторы — это отличная тема для детей. Даешь ребенку синтезатор года в два-три — и пускай сидит с ним до 18 (смеется).
— А вы на чем в детстве развивали внутреннюю музыкальность? Какой музыкальный инструмент вам выдали родители?
— У меня был даже ленточный ревербератор. Такая советская разработка: большая коробка, состоящая из трех отсеков, а в ней записывающая головка и несколько считывающих. Магнитная лента крутилась по кольцу. Записанный звук несколько раз считывался головками и от этого размножался, создавая эффект реверберации.
Психоделическая музыка развивает образное и неодностороннее восприятие мира.
Потом мы с друзьями скрутили у этого аппарата все головки, кроме одной, и сделали из него такую пленочную драм-машину, предтечу сэмплера. Мы ходили в наш детский дом культуры, где в комнате для оркестра стояла раздолбашенная барабанная установка прибалтийского производства. На ней играли биты, записывали их на магнитофон, потом выбирали лучшие, резали пленку, склеивали в кольца и вставляли в этот ревербератор. Он гонял бит по кругу, как драм-машина. На бит можно было накрутить примитивных звуковых эффектов — изменить скорость, добавить флэнжер. А потом поверх этого бита мы наигрывали что-то на гитарах. Более аналогового сэмплера, чем тот, который мы изобрели в детстве, я больше не встречал.
— Так вы экспериментировали в группе «Инфекция»?
— «Инфекция» появилась чуть позже, когда мой друг купил барабанную установку. А у меня появился огромный комбик со здоровенными динамиками. Мы дома у меня записывали гитару на 5-м этаже в девятиэтажке, а вторую часть — барабаны и голоса — на 4-м этаже пятиэтажки. То есть запись альбома «Инфекции» распространялась на весь квартал. А записывали мы в год по три альбома. Наш материал знали все соседи (смеется). Но нам разрешалось практически все, люди ходили и тупо улыбались.
Только моя мама говорила: очень хорошая музыка у вас, и играете хорошо, и поете мило, но, может быть, в текстах сделаете поменьше мата (смеется)? А мат у нас был в песнях через слово, и слова мы подбирали самые мерзкие. Не чтобы шокировать, а чтобы людям было неприятно слушать. При этом музыка была притягательная. Я тогда не понимал, а сейчас понимаю, что это была своеобразная психоделия. Для очень тонко чувствующих людей.
— Быть музыкантом в советское и раннее постсоветское время — это бесконечная борьба за заграничные инструменты, за хорошую студию и качественную запись. Для вас это было важным? Вы мечтали о какой-нибудь невероятной гитаре?
— Не было таких идей. Помню, я купил себе за 100 рублей гитаруStar 9 — она была полностью угашенная. Формой как отвертка. Мы ее отреставрировали и сами разрисовали. Мой друг Себастьян Грей сам себе гитару сделал: полностью выпилил корпус, сам намотал катушки звукоснимателя. Она не очень строила, но у нее был интересный эффект — он сделал тумблер, который включал на ней жуткий перегруз. Его включаешь — гитара начинает адово гудеть, завывая и посвистывая: «Ти-у-у-п-ж-ш-ш-ш!» Это было прикольно. Мы ее использовали как нойзовую гитару пару раз, но больше она воспринималась как реликвия.
Я до сих пор люблю гитары, которые не воспринимаются большинством музыкантов серьезно.
— Например?
— Всякие «Мустанги», «Ягуары» или Danelectro, сделанные из пластмассы. Они не первого эшелона, не «Фендеры» и не «Гибсоны». «Гибсоны» я тоже люблю, но полюбил их несколько лет назад, когда записывал альбом «Изнутри». А до этого я их не использовал.
Я люблю использовать вещи, которые большинство не воспринимает музыкальными. Могу ртом изобразить какой-то звук, который ни один инструмент не изобразит. И битбоксить могу. Даже когда я объясняю что-то музыкантам, использую тело — бит, гитарную партию или трубу. Это несложно, когда хорошим слухом обладаешь.
— У вас восприятие музыки природное, не по учебнику.
— По учебнику — скучно. Я, правда, и поучиться попробовал — педагогический музыкальный университет окончил. Правда, диплом защищал в средней музыкальной школе — «Психоделическая музыка как новый джаз». Я объяснил в нем, что психоделическая музыка развивает образное и неодностороннее восприятие мира.
— У нас недавно было опубликовано интервью с композитором Владимиром Мартыновым, где он заметил, что у русского рока никогда не было собственного звука. У нас только копировали английские и американские образцы и больше внимания уделяли слову. Вы — один из немногих наших рок-музыкантов, которые интересуются именно звуком; что об этом думаете? Вы связываете себя с русским роком?
— Ну, я — русский. Я рок играю. Наверное, что-то в этом есть. Но то направление, которое называют «русским роком», мне не очень импонирует. Я не слушаю этой музыки. В 90% случаев это очень плохо сделано, как и все у нас. Поэтому, наверное, Мартынов прав — у нас не выработано собственное звучание. Нет ничего своего, как и во многих других областях. У нас вообще нет культуры восприятия творчества и искусства — у нас много десятилетий это в людях не воспитывали. Поэтому и проблемы нашего общества — что люди не видят ценностей, не понимают красоты и не чувствуют ее. Воспринимают только пошлые, смешные и циничные штуки — «ла-ла-юмор», группу «Ленинград». Но красоты в этом нет никакой.
Все было абсолютным хаосом, потому что хаос — это моя гармония.
— Вы выступали когда-нибудь вместе с «Ленинградом»?
— Неоднократно. И со Шнуром мы знакомы. Мы выступали даже на одной сцене. У «Ленинграда» был какой-то прощальный концерт в Москве — я вписал туда «Инфекцию» сыграть на разогреве. Было интересно выступить на большой площадке. Но у них специфичная публика, которая не оценила нашего юмора. Как я говорил, у нас очень сложная психоделия, а им надо унца-унца и чтобы простыми человеческими словами. Чтобы все было понятно.
— Кстати, что происходит с «Инфекцией»?
— Кипит работа над нашей юбилейной ипишкой, состоящей из пяти песен. Песни не короткие, поэтому ипишка будет длинной. Это, наверное, будет единственный активный период группы, посвященный ее 30-летию. Возможно, в июле мы выпустим этуEP в iTunes и добьем полной дискографией группы, выложив все, что было записано. Дадим единственный концерт, и на этом «Инфекция» прекратит свое существование.
— Было неожиданно узнать, что ваш новый двойной альбом «Молекула» состоит из перезаписанных хитов. Вы бы могли и новых песен на двойник записать. Почему вы решили вернуться к старым?
— Я его и не позиционировал как новый. Действительно, новых там всего две песни — «Молекула» и «Ева», которая тоже была написана в 1980-х. Альбом я хотел записать, чтобы зафиксировать новое звучание группы. Пару лет назад мы стали давать акустические концерты с инструментом кахон — это фактически аналоговая драм-машина, по которой бьешь полной рукой, как по барабанам. Его динамика меня настолько воткнула, что я модернизировал биты в своих старых песнях — сделал их более модными, более прямобочечными. Реакция людей на перемены была настолько яркой, что я решил зафиксировать этот звук. Арендовал старый советский ДК, акустика которого была заточена под выступления народных коллективов и певцов под рояль. А там — лепнина: юноши с птицами, девушки с плодами, атлеты, младенцы в кустах и т.д. Вот в атмосфере такой нашей корневой «Олимпии» мы записали 20 старых песен и две новые.
«Еву» меня давно просили записать фанаты. Она о первой девушке в жизни взрослого мужчины: неважно, сколько женщин у него было до этого, сколько детей он нарожал, — вот он встретил первую женщину, ради которой готов измениться. Она и есть Ева.
Но и детям эта песня тоже нравится. Моя дочь Вика говорит: «Я в “Еве” припев наизусть знаю. Могу спеть: “Ева, йе-и-йе-и-йе”».
— Я слышал, что у вас в юности была тетрадка с планом вашего развития как рок-звезды и предполагаемой дискографией.
— Была только дискография, без плана развития. Я не писал: отращу себе длинные волосы, вставлю сережки и куплю такую-то гитару. Все было абсолютным хаосом, потому что хаос — это моя гармония.
— Что за альбомы были в дискографии?
— Каждый альбом был прописан по песням. От 9 до 20 песен в каждом. Были и двойники, и тройные. Смешно все это!
— Есть ли пересечения той выдуманной дискографии с вашей реальной?
— Нет. Я как-то снова заглянул в ту тетрадку, и мне что-то ничего не понравилось. Хотя вру — одно название есть, которое я рано или поздно использую. Я его пока говорить не буду. Оно очень длинное. Я тогда любил называть альбомы очень пространно. В две или три строчки. Я представлял себе, что у меня будет на обложке винила только название альбома, даже «Найк Борзов» не будет написано. Так вот, я собираюсь выпустить альбом с песнями, которые не вошли в мои предыдущие альбомы. Возможно, это будет альбом на четырех пластинках. У меня уже набралось порядка 40 песен, которые я бы хотел записать. Они лежат уже лет 20 или 30. Я понимаю, что они никому на хрен не нужны, но мне бы хотелось это сделать.