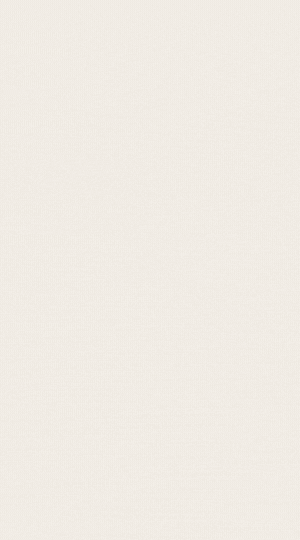Истории из жизни урбанистики

Мы с друзьями из нескольких стран недавно съезжались в Лиссабон потрепаться о судьбе издательских проектов, которые под натиском виртуальной культуры, а также из-за ухода крупных людей, на ком до поры до времени все держалось, трещат и тонут на наших глазах. Вернее, с нами на борту. Назрели разговоры о копирайте, о литературном наследстве, о литературном переводе, в первую очередь — не уйти от морской метафорики — о «Корабле Тезея». Это название в прошлом году придумал Умберто Эко для издательства, которое основал, вывернувшись из лап покупавшего «Бомпиани» Берлускони. После чего, не успев расставить точки над «и», Эко и сам уплыл в недостижимые воды Леты. А нам теперь во всем этом хозяйстве разбираться.
Лиссабон основан уцелевшим Одиссеем, плывшим из Трои на Итаку.
Выдох уцеления испускаешь сразу, ступив на белый тротуар. Чувство «как мне повезло!» на фоне памяти о катастрофе.
Катастрофе не одиссеевой и не тезеевой. Автоматическая отсылка памяти — легендарное Лиссабонское землетрясение. Оно произошло в День Всех Святых, 1 ноября 1755 года. Все были именинники. Все шли на заутреню. Хорошо, что земля лопнула в 9:40 утра, а не в десять (каноническое начало мессы). Иначе погибло бы втрое больше людей в церквах, превращавшихся в гекатомбы под крушащими все живое крышами.
Беда, что люди тогда с утра успели затеплить свечи в честь заступников. Эти свечи стали источником апокалиптического пожара, с которым мало какие сравнятся в истории. Разве что дрезденский 1945 года, произошедший от зажигательных бомб?
Море библейски разверзлось. В пятиметровой ширины расщелинах обнаружились на дне замохнатевшие обломки древних и новых кораблей и утерянные грузы. Измерительные приборы, если и были, сгорели с городом. Сейчас считается, что сила бедствия была не то девять, не то двенадцать по шкале Меркалли. Лиссабонское трясение чувствовалось в Венеции — знаем от Казановы. Он сидел в тюрьме Пьомби и издевался над тюремщиками: «Лоренцо с парой своих людей как раз выходил из темницы, как вдруг я увидел, что огромная балка не то чтобы закачалась, но повернулась вправо и тут же, двигаясь медленными скачками, встала обратно на место; одновременно ощутил я, что теряю равновесие, и убедился, что это подземный толчок; удивленные стражники тоже сказали, что это землетрясение. Обрадовавшись такому природному явлению, я промолчал, но когда четыре-пять секунд спустя колебания повторились, не смог удержаться и произнес такие слова: “Un'altra, un'altra, gran Dio… Боженька, посильнее!” Стражники, перепугавшись этого, как им казалось, отчаянного бреда нечестивца и богохульника, в ужасе бежали. Позже, размышляя о своем поступке, я понял, что рассчитывал на возможность обрести свободу в том случае, если будет разрушен Дворец дожей; дворец должен был обвалиться, а я, целехонький, живой, здоровый и свободный, выпасть из него прямо на красивую мостовую площади Св. Марка. Так начинал я сходить с ума. Толчок же имел происхождением то самое землетрясение, которое как раз тогда разрушило Лиссабон».
Невроз у выживших развился такой, что король Жозе Первый всю жизнь потом ночевал на газоне в деревянной будке. И его можно понять: королевские опочивальни во дворце Мафра устроены в угловых башнях (там стены устойчивее), но залов в Мафре 800, протяженность фасада четверть километра, лестницы посередине, и я, расхаживая по Мафре, думала: каково тут бежать до аварийного выхода, да еще когда здание колышется. Дуть через анфиладу в сорок комнат под трескающейся лепниной. О таком паническом метании написал один из выживших, англичанин Уолсал, в реляции в Лондонское королевское общество: «В несколько секунд рухнули все церкви и монастыри в городе вместе с королевским дворцом, с новопостроенным дивным оперным театром… Люди не спасали даже близких, каждый думал лишь о собственном спасении — добраться до какого-нибудь открытого места, до какой-нибудь широкой улицы…» Кстати, выбраться на простор в тот несчастный день было тоже не сильным счастьем. Кто добегал в поисках шири до берега Тежу — того встречало летящее от моря цунами высотою15 метров.
В конце XVIII века уже существовала популярная пресса. Мир узнал о случившемся. Газетчики раздули, что могли, во сколько сумели раз. Кое-где писали не о (сегодня принятой) реальной цифре от 20 до 60 тысяч погибших, а о миллионе жертв. Вольтеру это дало возможность покритиковать в «Поэме на бедствие в Лиссабоне» деятельность Бога и в очередной раз оспорить его существование. Руссо кивал на лиссабонское бедствие как на Божью указку: незачем жить в городах, надо на природе. В тот год родился жанр изображений-ужастиков «Виды Лиссабонского землетрясения», начало которому положил Жак-Филипп Леба, чьи первые гравюры были напечатаны в 1757 году. Кант по молодости попробовал создать сейсмологическую теорию, ценную главным образом тем, что в ней потом остроумно разобрался Вальтер Беньямин.
Думаешь о том и смотришь: вообще-то не Помпеи. Где следы шестой песни Апокалипсиса? Торчат в беспорядке подпоры, лебедки, обломки в клоструме главного собора и проложены мостки для туристов… Нет, это археологи весело откапывают древнеримский город и сохранившуюся под низом кафедрала мечеть. Никакого отношения к безумной стихии.
И приходят на ум размышления в русле модных сегодня, под влиянием Москвы, вопросов урбанистики и власти.
Размышляешь, как были проведены в рекордное время уникальные, полезные и новаторские меры по благоустройству Лиссабона, но при этом они были очень слабо разъяснены населению. В результате — слезы и проклятия, костры, на которых жгли инакомыслящих, и смертный приговор маркизу Помбалу, спасителю города.
И по резкому контрасту — при другом диктаторе, Салазаре, в том же Лиссабоне было понаделано сколько угодно пустой показухи, но народу все это сумели преподнести через умело найденные образы, символы, ритуалы. Что было принято спокойно и позитивно конечным адресатом — тем самым народом. А с ним европейскими туристами, историками, писателями, в общем — Европой, да и почти целым миром в придачу…
… В 50-е годы XVIII века Лиссабон привели в порядок просто молниеносно. Следов катаклизма было не разглядеть уже через десять-пятнадцать лет после бедствия, казавшегося поначалу концом столицы и полным крахом Португалии. Не дал ей сокрушиться, Португалии (и это его заслуга), деятельный государственный человек — Себастьян Жозе ди Карвалью-и-Мелу, маркиз ди Помбал.
Лицо двусмысленное. Как принято было говорить в оные времена, например, о Хрущеве, «он был разный». Помбал был «разный». И жизнь у него оказалась разная: от сосредоточившейся в его руках в 1756—1777 годах неограниченной власти — до суда и смертного приговора именно-таки за диктаторские бесчинства, замененного на пожизненное изгнание.
На следующий день после землетрясения Помбал отправил перенервничавшего короля отлеживаться в имении, произнес сакраментальную фразу «Теперь будем хоронить мертвых и заниматься живыми» и запретил кому бы то ни было покидать превращенный в пыль город и строиться за его чертой. Только в центре. Спасать следовало центр. Все остальное, сказал Помбал, впоследствии нарастет само.
Это направление его мыслей мне кажется гениальным. Совсем не везде так. Когда в 2009 году в Италии перетрясло Абруццо, а главный удар попал на волшебную столицу девяноста девяти княжеских семей — город Аквилу, на восстановление одного лишь Фонтана девяноста девяти скульптур потребовалось семь лет, и то на деньги частного фонда ФАИ и с участием добровольцев ФАИ. Починили. Фонтан, ура, снова плещет 99 струями. Растут цветы. Остальная столица — в руинах. Я это видела через семь лет после бедствия. После всех общенациональных пожертвований, благотворительных концертов, марафонов. После посещения места катастрофы мировыми лидерами с саммита «восьмерки» (с Медведевым) и выпуска музыкальных коллекций, где из-за слез осекались голоса певцов. Страной тогда управлял Берлускони, тоже сосредоточивший, выражаясь традиционными словами, в руках более-менее «неограниченную власть». Власть принимать законы под себя и членов своего клана. Он публично отринул помощь иностранных государств и частных лиц: «Итальянцы — гордые люди, справятся сами». Долго морочил Обаме голову по телефону (нация, притихнув, следила). А затем келейно, без огласки, принял 500 миллионов евро от Евросоюза — самую крупную сумму безвозвратной помощи, когда бы то ни было выданную этой организацией. Затем Берлускони и его прикормленные министры (особенно коррумпированным и беспардонным, как и не только в Италии, оказалось самое внешне благопристойное ведомство — чрезвычайных ситуаций) выписали принимающим структурам по 25 тысяч евро за каждый год за каждого отдельного эвакуированного жителя. Их селили в гостиницах на побережье Адриатики. Некоторые переселенцы прожили в отелях чуть ли не до сегодня. Другие жили годами в металлических контейнерах. Подряды и на расселение, и на строительство получили берлускониевские дружки.
Эти строительные фирмы соорудили несколько хлипких микрорайонов на выселках. В центр населению не разрешили вернуться: дома дышат на ладан, с ними когда-нибудь что-нибудь решат. То есть была принята линия поведения, обратная помбаловской. Результат: город Аквила полумертв и вряд ли имеет надежду прийти в себя.
Вот так на моих снимках выглядят дома Аквилы.
Вот вид из окна моей (пятизвездной) гостиницы Sextantio в разрушенном аббруццском бурге Санто-Стефано-ди-Сессанио.
Другой корпус Sextantio. За право ночевать в этих развалинах берут очень дорого.
Вот что называется «делать бизнес на ненормальности».
А в Лиссабоне XVIII века план Помбала не только быстро возвратил городу нормальный населенный центр, но и — очень важно — произошло это под знаком натуральности. Была применена схема, позволившая городу продолжить естественный рост. Как растет сад.
И что же? К сожалению, осуществлялось это резко, волюнтаристски, и в результате получили не благодарность, а лишь протесты жителей. Те не поняли и не приняли способ, которым правители переиначивали их (и без того уже порядочно травмированную) жизнь.
Нагнав 54 тысячи заключенных со всей Португалии и велев плотно укатать территорию района Байша прямо по разрушенным строениям, по разбитым в щепу сундукам с девическими придаными, по алтарям с чудотворными Мадоннами, по помятым медным тазам, кулькам неразмолотого кофе, плетеным колыбелькам с погибшими в них малютками, по неотпетым покойникам — силами этих заключенных (бесчеловечные фараоновы стройки — знаем немало о них...) Помбал поставил новый центр города поверх старого центра. Распроектировал, построил, снабдил новаторской логистикой, заселил.
Из утрамбованного праха, некогда бывшего людским бытом, в Байше образовалось возвышение на четыре метра над уровнем моря. «Ну и славно, — вероятно, думал Помбал, — новое наводнение туда не дохлещет».
Для временного расселения жителей он велел закупить деревянные домики в Голландии. Они сначала были встречены в штыки, но постепенно вошли в зрительную привычку и повлияли на местный вкус: мы видим и там и сям, и во дворцах, и в простых зданиях вермеерские мелкие переплеты.
А деревянные домики велено было по мере их освобождения разбирать на доски и втыкать деревянным штакетником в грунт, создавая углубленные фундаменты по четыре-пять метров — грамотно, сейсмоустойчиво. Доски пронизали собою стены всех новых домов. Эти встроенные в каменную кладку деревянные эластичные клетки, фахверк, в Португалии называются «гайолы».
Применение гайол в наше время изучает гарвардский профессор Рандольф Лангенбах. Изображение взято с его сайта.
Помбал назначил главным архитектором проекта восьмидесятилетнего Мануэла ди Майю, который за свою мафусаилову жизнь накопил столько опыта и идей, а вдобавок и здравого смысла, что его приказы никоим образом не обсуждали и, естественно, не разъясняли. Их полагалось выполнять. Молча.
Ди Майя выдал уникальную программу, отличавшуюся от кольцевых «идеальных городов», которые выдумывались европейскими утопистами вроде Шпекле и Кампанеллы и фантазерами итальянского Возрождения: Филаретом, Альберти, Лаураной, Доменико Фонтаной. Парадокс, но по своему духу архитектура ди Майи ближе к идеям Корбюзье. Главными принципами у португальца тоже были минимализм (кто бы ждал — в эпоху рококо!), линейность, функциональность, сборно-разборность. Трудно опять же поверить, но уже в XVIII веке им были созданы государственные фабрики типовых элементов для строительства коробкообразных домов. Между домами должны были быть широкие пустые пространства. На фабриках выпускали и готовые блоки, и красивые легкие кирпичи: такой если и выскользнет вниз из кладки — это все же не то, что получить по кумполу мраморным триглифом. Помбал и ди Майя постановили, чтобы ни один дом не превышал двух, максимум трех этажей. Без балконов. Только на одном этаже из трех можно приделывать балкончики, узкие, неудобные. На которые ничего не поставишь. Кадки с цветами не допускаются. Никакого украшательства. Ни фронтонов, ни фризов, ни решеток, ни кариатид. Ни даже крылечек — вход с улицы прямо в помещение. Ни даже окон, кроме нескольких парадных окон в зале. Спальни — глухие. Через окна пожар, сказал Помбал, распространяется стремительнее всего.
В совершенно другой, построенной в XX веке, части города (в период «бель эпок») даже сегодня действует (может, негласный?) запрет на цветочки и кадки. Но балконы лихо подсвечены, и это порой по вечерам производит психоделическое впечатление.
Много внимания при благоустройстве было отдано защите города от пожаров. Уже и до помбалова землетрясения (но после нескольких предыдущих) в оборудовании домов важное место занимали противодымные вытяжки. Они поражают посетителей, скажем, в кухонной части монастыря Алкобаса — циклопические постройки современного вида, облицованные бело-голубым кафелем.
Вытяжки — главная достопримечательность и замка Синтра. Два белых конических дымоотвода больше всего похожи на замковые башни. А это обыкновенные, хотя и циклопические, колпаки для увода жара, дыма и искр из дворцовых каминов и печей.
Все камни, все рельефы, стелы и лапиды, которые вынули из-под груд мусора в Лиссабоне, все обломки мрамора и местного сияющего известняка — все это было измельчено заключенными, мостившими проезжую часть, и расколото на аккуратные пластинки, а те уложены в хитрую мозаику, которая, случись опять в Лиссабоне шевеление земной поверхности, уже не вздыбит улицы массивными плоскостями, напоминающими конец света, каким он выглядит, например, на саркофаге невезучего, но упрямого короля Педру I (в монастыре Алкобаса). Улица просто пошевелится, как змея, сморщится — растянется — и вернет себе исходные очертания.
Общеизвестна и любовь строителей нового Лиссабона к голубым кафельным изразцам, огнеупорным «азулейжос» — с кобальтовой росписью в духе Делфта-Гжели (название, вопреки кажимости, происходит не от слова azul — «голубой», а от арабского слова «блестящий»; так арабы звали древнеримские и византийские мозаики).
Кафель этот на открытом воздухе используют только в тех странах, где не бывает минусовой температуры, поэтому мы редко видим подобную отделку. Где она имеется точно — это в Неаполе в клоструме монастыря святой Клары, туда обязательно приводят туристов.
Запустив все эти и многие другие преобразования, Помбал, фигурально выражаясь, уселся с инженером ди Майя за стол для новой цели — распланировать не только инженерную, но и социально-идейную часть. И они принялись перекраивать город, конечно, властными, исполинскими «маниями руки», но и с явным желанием повторить тихие и уютные прототипы средневекового насиженного гнезда с обязательными улицами Ремесленников, Горшечников, Лудильщиков, Серебряников, Золотильщиков. Подобные имена обычно улицы подбирают себе сами. В суете средневековой жизни. А вот на лиссабонскую карту эти названия попали при рациональном программировании. Разумное решение, тонкое решение, призванное служить противовесом к сильным нововведениям и направленное на подсознательное умиротворение народа. Но — опять — решение, навязанное волюнтаристски. Отношений с городскими массами это не спасло.
Все, что делало начальство, было непопулярно. И хотя отсутствовали подозрения по поводу наглого воровства, какие, увы, есть и в случае Берлускони с дружками, и в случае Собянина с собянинцами, все же на вопрос, понимал ли спускаемые сверху меры простой люд города Лиссабона, приходится дать ответ: не понимал.
К каким бы рациональным средствам «обратной связи» ни обращался Помбал, на много десятилетий опережая развитие социологии, — всем жителям Лиссабона он роздал опросники для протоколирования подробностей, как и что каждый чувствовал и наблюдал во время землетрясения; я видела анкеты, они хранятся в городском архиве — и как бы ни пробовал обосновать случившееся по-научному, народ не хотел ученых доводов и норовил свернуть в пересудах на мораль, то есть большею частью на грехи, и прислушивался к проповедям и пророчествам.
Роптали все, хотя и боялись драконовских мер Помбала против инакомыслия. Языкатого иезуита по фамилии Малагрида, автора брошюры «Об истинных причинах землетрясения» («Постигни, о Лиссабон, что разрушители наших домов, дворцов, церквей, конвентов, причина гибели столь многих — это наши неизреченные грехи. Вовсе не природные явления… Невместно считать земные трусы делами природными. Будь они таковы, не имелось бы необходимости в покаянии и утишении гнева Господнего. Меж тем все силы должны быть отданы у нас, у грешных, чистосердечному покаянию»), Помбал показательно сжег на костре. Мародеров тоже казнили. Не десятками — сотнями. Заслышав нытье монахов-францисканцев в монастыре-дворце Мафра, Помбал выгнал их оттуда вообще, несмотря на их давний стаж и заслуги в деле христианского прозелитизма. (Нет, нет! Бесчинства, отображенные на снимке, сотворил все же не маркиз Помбал в век Просвещения, а в 1219 году злые мусульмане в Марокко! Но скульптурная группа создана и оставлена в Мафре францисканцами, явно с укором, в помбаловские времена.)
В лучшем духе Просвещения Помбал двадцать пять лет вместе с Францией и Испанией давил на Ватикан, чтобы прищучить интриганский орден иезуитов, — и додавил. Климент XIV посланием «Dominus ac Redemptor Noster» распустил «Общество Иисуса» в 1773 году. Папа знал, что это рискованно. Он делился с окружающими страхом, что в отместку иезуиты уничтожат его. И они его, похоже, действительно отравили. Но великое дело было сделано. Для антиклерикализации мира роспуск иезуитов имел решающее значение (совсем иное значение он имел для российской аристократии, которую иезуиты поехали массово воспитывать в качестве юношеских наставников).
Избавившись от иезуитов, Помбал провел реформу образования с упором на курсы философии и естественных наук. И даже договорился (еще при Бенедикте XIV) с Ватиканом о разрешении создать у себя в библиотеке Мафры спецхран, где, как в зале «Hic sunt Leones» из романа «Имя розы», хранились в особом шкафу (хочется сказать «с гайкой» для тех, кто помнит) книги, занесенные в «Индекс» запрещенных. Чтобы все же хоть как-то имелся доступ к свободным идеям. Спецхран в торце того зала, что на снимке.
Чем решительнее раскрепощался просвещенный абсолютизм, тем, однако, непоправимее разверзалась коммуникационная пропасть между правителями и народом. Народ не давал себя уверить в функциональности деревянных антисейсмичных клеток-гайол. Народ искал заступы у хорошего проверенного святого, чудотворца «от землетрясений». Святой Антоний Падуанский (Лиссабонский) окончательно вытеснил собой исторического патрона города, святого Викентия. А ведь Викентий вовсе не подкачал в качестве заступника: стоящий на самом опасном месте подведомственный ему собор Сан-Висенте-де-Фора вытерпел землетрясение, не сильно даже потрескавшись, со всем богатым декором «мануэлино». Это единственное массивное здание города, которое устояло.
Но народу почему-то святой Викентий не был люб. Наверное, потому, что он был «назначенный сверху» святой. Покровитель правящей династии. И никому не было дела, что Викентия повсюду в Европе любят, что его почитают, скажем, в итальянском городе классической, перфектной архитектуры — Виченце (Виченца и названа в его честь). Лиссабонцам это не казалось существенным. В порыве ярого противления они избрали «спонтанным» святым другую личность — Антония. Причем не Антония Аббата, затворника, известного исцеляющей способностью, а Антония Лиссабонского, в миру Фернандо де Буйона, родившегося в 1195 и умершего в 1231 году в Падуе, отчего его часто зовут Антонием Падуанским и пышно чтят в Падуанском соборе с алтарем работы Донателло, задаривая «экс вото» — серебряными ножками, ручками и сердечками — в благодарность за исцеления, как крошку Цахеса, в то время как по правде-то исцеляет людей Антоний Аббат, его тезка.
Вот так. Одному все, другому ничего. Как в жизни.
За свои или чужие заслуги Антония Падуанского в Лиссабоне любят. Любит народ. У Антония хорошие чудеса. Карнавальные, ясные, телесные. Их описывает, скажем, Жозе Сарамаго в «Воспоминаниях о монастыре»: «Деревянная статуя святого Антония покрылась обильным потом, и выделялся пот столько времени, что успели явиться судейские чиновники и нотариусы, по всем правилам засвидетельствовавшие чудо, состоявшее в том, что дерево выделяло пот, а вор исцелился, когда провели ему по лицу полотенцем, смоченным благословенною влагой. И таким образом остался тот человек жив-здоров, да к тому же раскаялся» (перевод А. Косс). Антоний, когда захотел, перевоспитал в христианство мулицу. И она с тех пор отличала освященные просфоры от простых хлебных корок. В частности, этому «Евхаристическому чуду с мулицей» посвящен храм по проекту Браманте на главной площади Римини (снимок ниже).
Вот этот Антоний и был героем громогласного празднества в ночь 12 июня, в финал побывки нашей издательской компании. Раблезианская картина. С тысячами фотографий можно ознакомиться, поискав на «Festas e marchas populares de Santo Antonio Lisboa». В очередной раз Лиссабон не помог нам сосредоточиться, а отвлек от работы. Уличный гам не удавалось перекричать. Разноцветные ленты развевались повсюду и были протянуты поперек улиц, ленты были почему-то красно-бело-зеленые, расцветки итальянского флага (в честь падуанскости?). Фейерверки. Дикарская подсветка. Сардины во всех вообразимых видах. Сардина, мы поняли, у Антония — тотемное животное. Мы вступили с сардинами в бой. Сардины шли на нас, нарисованные, слепленные, вышитые, жаримые, едомые. Мы их уничтожали. На помойках в городе скапливались их шкурки и скелеты. Народ был разряжен как бог весть что. Накладные усы, парики, рубахи в клетку с цветочками. Орали все. Верещали губные гармошки, трясли воздух ударные установки, как на сельских танцплощадках. А те герои, которые с утра лыка не вязали, смотрелись колоритно и без маскарада.
Разные души города — простонародная и начальственная — выразили себя на двух отдельных праздниках в одну и ту же неделю. Дело в том, что в самый первый день, 10 июня, в Белене мы наблюдали государственную церемонию. Это был официоз в честь Дня Португалии. Ныне это День Камоэнса. Но при сочинившем этот праздник Салазаре он именовался «День расы». Звучит ужасно. Чуть полегче может стать, если выговорить полным текстом: «День португальской расы». Целью церемонии было вдолбить всем в голову, что португальцы с материка и жители колоний соединены неразрывными узами. А также — что «Мозамбик наш», «Ангола наша», и Гоа, и Восточный Тимор, и далее по списку. Что Португалия, хотя мала и бедна, является последней великой империей и стоит за этот принцип.
Нам интересна эта риторика, поскольку она была при Салазаре искусственно разработана «на верхах» и спущена населению. Так-то и был построен у моря Беленский мемориальный район. А в особенности площадка у набережной, где стоишь и понимаешь: вот геометрический центр салазаровского мифа. Но какой убедительный, хотя и лаконичный!
Небо бесконечно широко, непомерно распахнута вода, хочется не думать, что там дальше — вечность или гибель?
— Дальше тоже наша Португальская империя, не волнуйся, — ласково отвечают волнующиеся вокруг мраморной мозаики воды.
Именно отсюда, рискуя жизнью (небо еще не было картографировано, секрет долготы не был найден), отплывали в XV веке каравеллы (португальское изобретение — косой парус в сочетании с прямым, ходить против ветра) и в Африку, и в Америку, и в Индию. Тогда-то и стала личной эмблемой короля Мануэла Первого армиллярная сфера. Салазар с его острым чутьем на символы ввел эту сферу в герб страны Португалии: это то желтое и непонятное, что высовывается из-под щитка. Этот предмет обильно использован в декорации города. Вот на наборной, заказанной в Италии мраморной мозаике в церкви Святого Павла в Лиссабоне:
А вот в Белене:
Подобные приборы и новаторские мореплавательные ноу-хау позволили португальцам освоить большие территории в Африке, Азии и, естественно, в Бразилии.
Отсюда, из Белена, отплыл Генрих Мореплаватель. Отсюда отправился и Васко да Гама, в чью честь построен на мысу монастырь Иеронима («Белен» — «Вифлеем» по-португальски, а в историческом Вифлееме первый монастырь построен одним из отцов церкви, Иеронимом). Вифлеем же лиссабонский возведен на первые «перцевые деньги» Нового Света. Кстати, название этого налога pimenta — ироничное. Имелись в виду сборы с импорта золота и драгоценных камней.
Отсюда отплыл Кабрал, приведший под португальскую руку плодородную богатую Бразилию.
Так умел отрабатывать публичную риторику и монументальную символику португальский диктатор Салазар.
Каждый знает, что за приятная особа был этот самый Антониу ди Оливейра Салазар, правивший с 1933 по1968 г., начавший с поста министра финансов (как Помбал — с министра внутренних дел) и достигший поста государственного министра, что означало — диктатора. Похоже на Помбала. Салазар типичен для образа латиноязычного патриарха, подчиняющего идее власти и свой расцвет, и свою осень. Холостяк и мизантроп, психопат, редко выходивший из закрытых на ключ покоев, не встречавшийся даже с собственными министрами, угнетавший все свободы, опиравшийся на тайную полицию и секретные службы, он не подавлял возмущений народа — возмущений против него не было. Народ понимал его язык и тихо ждал перемен с соизволения Божия. Когда же Салазар наконец исчах над златом, выяснилось, что страна созрела для демократических перемен, и в 1974-м оказалась возможна пасторальная «революция гвоздик», когда на площади студенты картинно всовывали стебли цветов в дула солдатских ружей, и так букетиками завершилась самая долгая из фашистоидных диктатур.
А пока Кощей жил, народ безмолвствовал. Отчасти, наверное, потому, что диктатура умела аккуратно, не пережимая, использовать пропагандистские методы.
На Беленском мысу инкрустированы в мраморную мозаику все колонии от Бразилии до Макао, включая Гоа, Анголу, Мозамбик, Гвинею-Бисау, Кабо-Верде, Сан-Томе. Сейчас это уже бывшие колонии. Мы понимаем. Но на воображение туристов художественно удачная коммеморация по-прежнему работает. Колонии на мозаике выглядят все еще как колонии, а Португалия — как сверхдержава.
Тут же рядом переброшен манящий далеко (по ощущению — едва ли не на противоположный берег океана) мост. Это копия моста Голден-Гейт, сан-францисских Золотых Ворот. Он сработан той же самой американской строительной фирмой. Это очень грамотно формирует в восприятии смотрящих чувство мощи, океана. Чувство, что именно отсюда должно отсчитываться начало всех путей. На другой стороне Салазар велел поставить еще и 28-метровую копию рио-де-жанейровского Христа с Корковаду. В благодарность за то, что Португалия избегла участия во Второй мировой войне. И в напоминание, чья все-таки колония эта чудная Бразилия.
Монументальная пропаганда разместилась тут, в бескрайней дельте Тежу, когда салазаровское «Эстадо Ново» («Новое государство») в 1940 году решило побеседовать не только со своими подданными, но и со всем миром и устроило экспозицию-символ. Похлеще ВДНХ, рассчитанной на внутреннее употребление. Посерьезнее римской EUR, провалившейся вообще (выставка в Италии в 1942-м просто не состоялась). Нет, лиссабонская мировая выставка как была спроектирована, так и прошла. И имела успех. Проводилась она в честь сразу двух символических юбилеев: рождения португальского государства в 1140 году и обособления Португалии от Испании в 1640-м.
Эта выставка идеально сработала на международную легитимизацию диктатуры. Конечно, благодаря превосходно подобранной символике. Удачно было уже и то, что дизайнеры «португальского мира» избрали талисманом крестоносца. Общеевропейское единение против антихристовой силы. Идеал самоотверженности и добра. Трудно было представить себе что-либо более удачное в тот момент. И исторически верное, относящееся действительно к Португалии.
Многочисленные другие задействованные символы отражали, как сказано в проспекте выставки, темы «религии, нации, семьи, работы, власти, природы, сплоченности, международной славы, империи, цивилизации, многонационального государства». Все это предлагалось в виде праздников и манифестаций.
Лиссабонский павильон представлял собой сочетание алмазной рустовки Дома Бикос (это известное здание в центре на площади, ныне носящей имя Реставраторов) и готики замковых башен; все отрихтовано под революционный конструктивизм. Премиленькая и весьма запоминающаяся внешность павильона.
…Брызги океана оседали на обелисках, стелах, гермах, рострах. Радовала душу, кстати, камерность всей этой декорации. Никаких шпацир-плацев. Никаких Марсовых полей, имперских форумов… Зато заботливо ухаживали за восьмым чудом света — президентским Заморским садом с вашингтонскими пальмами, драценами с Канарских островов, араукариями чилийских Анд.
Ощущалось, насколько власть Салазара чужда бессчетных толп и не хочет накала страстей. Массовые митинги в стиле Гитлера и Муссолини не были типичны для Лиссабона. Народ вообще не участвовал в маршах. Правитель не пытался щекотать ему нервы запахом крови, разводить коллективную истерику. Народ попросту должен был принимать идейный посыл. Народу адресовалась репрезентация властного величия. От него не требовалось истошно демонстрировать консенсус.
И в результате вот какое впечатление вынес из поездки в Португалию в1940 г. свободолюбивый летчик Франции Антуан де Сент-Экзюпери:
«В декабре 1940 года, по дороге в Америку, я проезжал через Португалию, и Лиссабон показался мне каким-то светлым и грустным раем. В ту пору там было много разговоров о неминуемом вторжении, и Португалия судорожно цеплялась за свое призрачное счастье. В Лиссабоне устроили великолепную, невиданной прелести выставку, и столица улыбалась через силу — так улыбается мать, когда нет вестей от сына с войны, стараясь его спасти своей верой: “Мой сын жив, ведь я улыбаюсь…”
Вот и столица Португалии словно говорила: “Смотрите, я так безмятежна, я такая мирная и светлая…” Весь материк нависал над Португалией, словно угрюмая гора, где рыщут орды хищников, а праздничная столица бросала Европе вызов: “Разве можно на меня напасть? Ведь я так стараюсь не прятаться! Ведь я так беззащитна!”
У меня на родине города по ночам были серые, как пепел. Я отвык там от света, и при виде сияющего огнями Лиссабона беспокойно и смутно становилось у меня на душе. Когда предместье окутано тьмой, бриллианты в чересчур ярко освещенной витрине привлекают грабителей. Чувствуешь, как они подбираются ближе. Я чувствовал — над Лиссабоном нависает ночь Европы, и в ночи кружат стаи бомбардировщиков, точно они издалека почуяли драгоценную добычу.
Но Португалия силилась не замечать алчное чудовище. Она не хотела верить зловещим знамениям. Вверяясь самообману отчаяния, она говорила только об искусстве. Неужели ее посмеют раздавить — ее, служительницу искусства? Она извлекла на свет все свои чудеса — неужели ее посмеют раздавить среди таких чудес? Она выставила напоказ своих великих людей. Пусть у нее нет армии, нет пушек — от железа и стали захватчика она заслонилась часовыми из камня: своими поэтами, своими землепроходцами и первооткрывателями. Неужели ее посмеют раздавить — ее, наследницу столь славного прошлого?
Каждый вечер я в невеселом раздумье бродил по этой прекрасной выставке: то был образец тончайшего вкуса, все здесь было на грани совершенства, даже музыка — неброская, выбранная с таким тактом, она струилась среди садов мягко, скромно, будто бесхитростная песня родника. Неужели погубят это удивительное чувство гармонии? И через силу улыбающийся Лиссабон казался мне еще грустней моих погасших городов» («Письмо заложнику», перевод Норы Галь).
Вот как подействовала профессионально четкая пропаганда (беззащитность и величие — сила искусства на фоне силы пушек — и так далее, и тому подобное) даже на видавшего виды Сент-Экзюпери!
Стоит ли удивляться, что на другую, но тоже профессионально сделанную сталинскую удочку ловились и Бернард Шоу, и Фейхтвангер, не говоря уж об эмоциональных французах с итальянцами.
Самые внимательные-то люди как раз и ловятся. Мы все в этой ловушке бывали. Мы — те, кто далек от несгибаемости. Кто поддается соблазну рассуждений «да, но…», «верно, хотя…» и разных прочих «с одной стороны… с другой…»
Хрестоматийный пример? Пожалуйста. Опять о Салазаре. Диктатура бесчеловечна? Да? А салазаровская Португалия как раз на очень хорошем счету в Яд ва-Шеме. Ее официальные дипломаты выручали евреев. Аристидес де Соза Мендес, работая консулом в Бордо, выдал тысячи въездных виз (тысячи — это преувеличенные цифры по последним исследовательским данным, надо говорить вместо этого «сотни», Мендес округлил в свою пользу — но что это меняет? Сотни спасенных людей так же точно вводят его в ряды праведников). Выписывали фальшивые паспорта, укрывали людей в посольствах и португальские дипломаты в Роттердаме, Гааге, Антверпене, Париже, Тулузе, Берлине, Женеве. Карлос Сампайо Гарридо — посол Португалии в Будапеште, торговый атташе Карлос де Лиз-Тешейра Бранкиньо… Их много, их действительно много, и порой вели они себя высоко и бесстрашно, вплоть до прямого столкновения с гестапо.
И еще в одном не столько коммерческом, сколько идейном аспекте португальская хунта тоже проявила себя неоднозначно. С началом нацистско-советского военного конфликта прервалось снабжение германской промышленности вольфрамом (он еще называется «тунгстен», а иногда архаично — «волчец»). Вторым возможным поставщиком этого необходимого для войны металла была Португалия. Германия готова была покупать вольфрам для военных надобностей у Португалии по любой цене. Но Португалия, апеллируя к своим обязательствам нейтральной державы, летом 1941 года уперлась. Не будет продаж — ни на каких кондициях! Гитлеровцы от ярости были вне себя. В октябре 1941 они потопили португальский торговый корабль. Это впервые был поражен корабль нейтральной державы в ходе Второй мировой войны. В декабре немецкие подводные лодки, завидев португальский караван, торпедировали еще одно судно. И все равно Португалия отказалась продавать вольфрам...
Теперь самое смешное, к слову о «в то же время…» и «да, но…»: скрытно, через швейцарцев, Порту