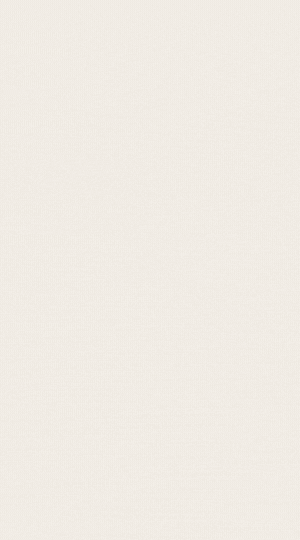Детки. Новые балеты на музыку Прокофьева

В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» Мариинский театр показал двойную премьеру, приуроченную к 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева, — «Русскую увертюру» Максима Петрова и «Скрипичный концерт № 2» Антона Пимонова. О значении этого диптиха для отечественного балетного процесса — Софья Дымова.
Поручив полновесные фестивальные премьеры малоопытным постановщикам — оба активно ставят лишь третий год, — руководство мариинского балета поступило непедагогично. Молодым хореографам рекомендуется, как известно, начинать с малого: короткие музыкальные пьесы, небольшое число исполнителей. С другой стороны, жест Мариинского театра понятен: желание экстренно вырастить собственных сочинителей есть попытка преодолеть незаживающую который год «травму Ратманского» — уход из страны единственного постсоветского хореографа с международным реноме.
Этот болевой синдром представляет для молодых хореографов большую опасность: спешно разыскивая нового Баланчина или нового Ратманского, отечественный балетный наблюдатель предъявляет неимоверные (и одновременно весьма смутные) требования к каждому дебюту. Если новичок с первой же попытки не выдает шедевра вроде «Агона» или «Русских сезонов», ему грозит быть сброшенным со скалы, как недоразвитому младенцу в Спарте. Мы помним, с каким упоением почтенные дамы песочили два года назад участников мариинской «Мастерской молодых хореографов» — благо за казнью новичков можно было наблюдать live на официальном сайте театра. С тех пор публичные обсуждения новых работ и вовсе прекратились; ученикам попросту отказывают в праве на ученические кляксы в тетради.
Накануне отчетного спектакля зритель волен был рассуждать примерно так: театр, называющий себя «домом Прокофьева», сыграл к юбилею композитора все концерты и симфонии, а вот балетного подарка не припас, поэтому под занавес сезона заткнул репертуарную дырку чем придется, бросив на протокольное мероприятие молодых дурачков. Последние, впрочем, выдали два мастеровитых, остроумных балета, после которых трудно уже не заметить, что дети выросли. Притом, как говорят в кулуарах, хореографы сами проявили инициативу и сами выбрали для своих спектаклей конкретную музыку — надо полагать, по некой личной (пардон, художественной) потребности, а не от верноподданнической любви к большим датам.
Прокофьев два
Новинки представляют двух абсолютно несхожих Прокофьевых, при том что третий — как раз таки автор одноактных балетов для антрепризы Дягилева — остался за бортом. Выбор Максима Петрова — «Русская увертюра» для большого оркестра — маргиналия на обочине официальной биографии, мало известная даже меломанам-архивариусам. Это первое сочинение композитора после репатриации: в нем отчетливо слышно желание легкокрылого космополита Прокофьева остаться самим собой, но при этом стать своим для воображаемого советского слушателя — отсюда уйма завитков и псевдорусской бахромы при довольно простой конструкции пьесы. В сочетании с жестким и громоздким оркестровым стилем, в то время новым для Прокофьева, такая «народность» способна отпугнуть от изучения малоизвестных страниц наследия композитора-юбиляра надолго.
Петрову с легкостью удалось найти баланс между абстрактной академической формой и сувенирной «русской» оберткой. Хореография напоминает о лучших опусах Ратманского, но идея механизированных танцовщиков-функций — противоположная, в сущности, «антропоморфности» Ратманского — и общий абрис наследуют скорее «Свадебке» Нижинской. Сложные ансамбли Петрова — маленький свечной заводик, затейливая механическая игрушка. Кисти кулачками, разинутые рты, поза-лейтмотив с оттопыренной рукой и дурацким взглядом в небо — персонажи напоминают малевичевских крестьян (костюмы Татьяны Ногиновой), но в мизансценах Роберта Уилсона, чьи работы хореограф явно изучил. Среди пятнадцати участников единственное живое лицо — безымянный солист, всеобщий любимец и вечный одиночка, горестный персонаж «от автора», с изумительной пластической свободой станцованный Василием Ткаченко.
Очень дробно, строго по музыке выстроив смену эпизодов — после ряда изобретательных эволюций группы кордебалета поочередно сдувает со сцены, — Петров поймал счастливое ощущение сквозного моторного движения, которого не хватало его прежним работам: разве что в самом начале спектакля едва ощутимы ритмическая вялость и не всегда логичное строение комбинаций — но победителей, как говорится, не судят.
Маленький свечной заводик, затейливая механическая игрушка: кисти кулачками, разинутые рты, поза-лейтмотив с оттопыренной рукой и дурацким взглядом в небо.
Вневременная, надчеловеческая природа дара Прокофьева ярче всего проявлялась в его финалах. Он один умел живописать всеуничтожающие солнечные восходы, еще со времен «Скифской сюиты» умея смотреть на них не мигая, а в поздних опусах доводя любимый прием до масштабов ядерной катастрофы. На последних тактах «Русской увертюры» — где струнные и деревянные духовые сотню раз повторяют один и тот же паттерн, а раскаленная медь ревет лирическую тему — задник наливается багровым, заводных человечков заедает на одной комбинации, пока все не рушатся оземь. Калинка-малинка и обаятельные танцульки оборачиваются не слишком веселой, пугающей своей истовой механистичностью развязкой. Красно солнышко, на которое крестьяне глядели весь спектакль, одарило их по башке кулаком.
В хореографическом остинато последних минут спектакля Петрова опытный зритель увидит и травестии пляски Избранницы из «Весны священной», и привет свеженькому«Медному всаднику» Михайловского театра, где в огненном шаре на петербуржцев падал Петр Первый, а самые дальнозоркие — оммаж недавнему парижскому «Щелкунчику» Дмитрия Чернякова, где в апофеозе планету уничтожал астероид. Весь сезон на балетных подмостках подсознательно, с маниакальной настойчивостью воспроизводится один и тот же катастрофический сценарий. Вот и в «Русской увертюре» «жертва собой — экзистенциальный, индивидуальный акт, вынуждаемый крайними обстоятельствами, превращается в коллективную обязанность»: перед нами Россия, вожделеющая челябинский метеорит как желанного жениха.
В узко ремесленном смысле «Увертюра» важна попыткой синтеза двух важнейших танцевальных начал — классического и характерного. Существует неформальное цеховое разделение: характерный танец, понимаемый как набор испанских-цыганских-венгерских плясок, обычно стоит на обочине карьеры танцовщика, солистами характерного танца якобы становятся неудачники из тех, кто не слишком силен в «чистой классике». Петров, опять-таки вслед за Ратманским, понимает характерное начало шире, как остроту пластического градуса, «отклонение от нормы» строения базовых поз, — и вживляет характерное в тело строгой классики (чему большинство исполнителей, что характерно, пока сопротивляется). Именно здесь, по мысли вашего обозревателя, заключена сермяжная правда «Русской увертюры» — а вовсе не в изображении горького русского пропойства или апологии олимпийско-сочинского духа, как кому-то может померещиться.